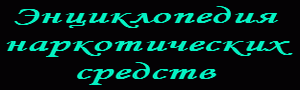КОКАИН
1
Уже нельзя было лечь на подоконник, темносерый и каменный, с
фальшивыми нитями мраморных жил, и с обструганным, обнажавшим
белый камень краем, о который точились перочинные ножи. Уже
нельзя было, легши на этот подоконник и вытянув голову, увидеть
длинный и узкий, с асфальтированной дорожкой, двор, - с
деревянными, всегда запертыми воротами, с боку которых, точно
утомленно отяжелев, отвисала на ржавой петле калитка, где об
нижнюю перекладину всегда спотыкались жильцы, а споткнувшись,
непременно на нее ругающими глазами оглядывались. Была зима,
окна были законопачены вкусно-сливочного цвета замазкой, меж
рамами стекла округло лежала вата, в вате были вставлены два
узких и высоких стаканчика с желтой жидкостью, - и подходя еще
по летней привычке к окну, где из-под подоконника дышало сухим
жаром, по-особенному чувствовалась та отрезанность улицы,
которая (в зависимости от настроения) возбуждала чувство уюта
или тоски. Теперь из окна моей комнатенки видна была только
соседняя стена с застывшими на кирпичах серыми потоками
известки, - да еще внизу, то самое отгороженное частокольчиком
место, которое швейцар наш Матвей внушительно называл садом для
господ, причем достаточно было взглянуть на этот сад или на
этих господ, чтобы понять, что та особенная почтительность
Матвея, с которой он отзывался о своих господах, была не более,
как расчетливое взвинчивание своего собственного достоинства,
за счет возвеличения людей, которым он был подчинен.
За последние месяцы особенно часто случалась тоска. Тогда,
подолгу простаивая у окна, держа в рогатке пальцев папиросу, из
которой со стороны мандаринового ее огонька шел синийсиний, а
со стороны мундштука грязно-серый дымок, я пытался счесть на
соседней стене кирпичи, или вечером, потушив лампу и вместе с
ней черное двоение комнаты в сразу светлевшем стекле, подходил
к окну, и, задрав голову, так долго смотрел на густо падающий
снег, пока не начинал лифтом ехать вверх, навстречу неподвижным
канатам снега. Иногда, еще бесцельно побродив по коридору, я
открывал дверь, выходил на холодную лестницу, и, думая, кому бы
мне позвонить, хотя и знал хорошо, что звонить решительно
некому, спускался вниз к телефону. Там, у так называемой
парадной двери, в суконной синей и назади гармонью стянутой
поддевке, в фуражке с золотым околышем, поставив сапоги на
перекладину табурета, - сидел рыжий Матвей. Поглаживая
ручищами колени, словно он их жестоко зашиб, он время от
времени запрокидывал голову, страшно раскрывал рот, обнажая
приподнявшийся и трепетавший там язык, и так зевая, испускал
тоскующий рык, сперва тонально наверх а-о-и, - и потом обратно
и-о-а. А зевнув, сейчас же, еще с глазами, полными сонных слез,
укоризненно самому себе качал головой, и потом умывающимися
движениями так крепко тер ладонями лицо, словно помышлял
сорванной кожей придать себе бодрости.
Вероятно, этой-то зевотной склонности Матвея должно было
приписать то обстоятельство, что жильцы дома, где только и как
только возможно, избегали и даже как бы пренебрегали его
услугами, и вот уже много лет в доме были приспособлены звонки,
шедшие из телефонной будки решительно во все квартиры, чтобы в
случае телефонного вызова, Матвею было достаточно только
надавить соответствующую кнопку.
Моим условным вызовом вниз к телефону - был длинный,
тревожный звонок, который, в особенности теперь, за последние
месяцы, приобрел для меня характер радостной, волнующей
значимости. Однако звонки такие случались все реже. Яг был
влюблен. Он сошелся с немолодой уже женщиной испанского типа,
которая, почему-то, возненавидела меня с первой же встречи, и
мы виделись редко. Несколько раз я пробовал встречаться с
Буркевицем, но потом решительно бросил, никак не находя с ним
общего тона. С ним, с Буркевицем, который теперь стал
революционером, нужно было говорить или гражданственно
возмущаясь чужими, или исповедуясь в собственных грехах против
народного благосостояния. И то и другое было мне, привыкшему
свои чувства закрывать цинизмом, или уж если выражать их, то в
виде юмора, - до стыдности противно. Буркевиц же как раз
принадлежал к числу людей, которые, в силу возвышенности
исповедуемых ими идеалов, осуждают и юмор и цинизм: - юмор,
потому что они видят в нем присутствие цинизма, - цинизм,
потому что они находят в нем отсутствие юмора. Оставался только
Штейн, и изредка он звонил мне, звал к себе посидеть, и я
всегда следовал этим приглашениям.
Штейн жил в роскошном доме, с мраморными лестницами, с
малиновыми дорожками, изысканно внимательным швейцаром и
лифтом, купэ которого, пахнущее духами, взлетало вверх с тем,
неожиданным и всегда неприятным толчком остановки, когда сердце
еще миг продолжало лететь вверх и потом падало обратно. Лишь
только горничная открывала мне громадную, белую и лаковую
дверь, лишь только охватывали меня тишина и запахи этой очень
большой и очень дорогой квартиры, - как навстречу мне уже
выбегал, словно в ужасно деловой торопливости, Штейн и, взяв
меня за руку, быстро вел к себе, в шкапу шарил в карманах
костюмов, и нередко даже выбегал в переднюю, видимо, и там
роясь по карманам в своих шубах и пальто. Когда все было
перерыто, Штейн, успокоенный, что ничего не потеряно, клал
предметы своих поисков передо мной на стол. Все это были старые
уже использованные билеты, пригласительные карточки, афишки
спектаклей, концертов и балов, - словом, вещественные
доказательства того, где он бывал, в каком театре, на какой
премьере, в каком ряду сидел, и, главное, сколько им было за
это заплачено. Разложив все это в таком порядке, чтобы сила
производимого на меня впечатления равномерно возрастала, и
руководствуясь при этой сортировке лишь величиной цены, которая
была за этот билет заплачена, Штейн, утомленно щурясь, как бы
преодолевая усталость, дабы честно выполнить чрезвычайно
скучную обязанность, начинал свое повествование.
Никогда не единым словом не упоминая о том, хорошо или плохо
играли актеры, хороша ли или дурна была пьеса, хорош ли был
оркестр или концертант и вообще какое впечатление, какие
чувства вынесены им из всего виденного и слышанного со сцены,
- Штейн лишь рассказывал (и это с мельчайшими подробностями) о
том, какова была публика, кого из знакомых он повидал, в каком
ряду они сидели, с кем была в ложе содержанка биржевика А., или
где и с кем сидел банкир Б., каким людям он, Штейн, был в этот
вечер представлен, сколько эти его новые знакомые в год (Штейн
никогда не говорил зарабатывают) наживают, и было очевидно, что
совершенно так же, как и наш швейцар Матвей, он с совершенной
искренностью верит в то, что чрезвычайно возвеличивается в моих
глазах, за счет доходов и высокого положения своих знакомых. С
ленивой гордостью протарабанив все это и упомянув еще о том,
как трудно было получить билет и сколько было при этом
переплачено барышнику, Штейн, наконец, склонялся надо мной и
подтачивал холеным ногтем своего большого, белого и шибко
расплющенного пальца высокую кассовую стоимость билета. Тут он
замолкал и, привлекши этим молчанием мой взгляд с билета на
себя - разводил руками, клал голову на плечо и улыбался мне
той плачущей улыбкой, которая обозначала, что это безмерно
высокая стоимость билета его, - Штейна, настолько забавляет,
что он уже не в силах возмущаться.
Иногда, когда я приходил к Штейну, он на своих длинных
ножищах находился в лихорадочной спешке. Страшно торопясь, он
брился, поминутно бегал в ванную и прибегал обратно, собираясь
куда-то - то ли на бал, на вечер, в гости или на концерт, и
было странно, зачем понадобился ему я, которого он вызвал
только что по телефону. Разбрасывая вещи, нужные и ненужные ему
для этого вечера, он в торопливости мне их показывал, - тут
были помочи, носки, платки, духи, галстуки, - мимоходом
называя цены и место покупки.
Когда же, уже совсем готовый, в шелковистого сукна шубе, в
остроконечной бобровой шапке, рыже морщась от закуренной
сигареты, которая ела ему глаз, задрав перед зеркалом голову и
шаря рукой по бритому напудренному горлу (смотрясь в зеркало,
Штейн всегда по рыбьи опускал углы губ) - он вдруг отрывисто
говорил - ну, едем, - то, с явным трудом отводя глаза от
зеркала, быстро шел к двери и так поспешно сбегал по тихо
звякающим дорожкам лестницы, что я еле его догонял. Не знаю
почему, но в этом моем беге за ним по лестницам было что-то
ужасно обидное, унизительное, стыдное. Внизу у подъезда, где
Штейна ждал лихач, он уже без всякого интереса прощался со
мной, подавал мне нежмущую руку и, тотчас отняв ее
отвернувшись, садился и уезжал.
Помню, как-то я попросил у него взаймы денег, какую-то
малость, несколько рублей. Ни слова не говоря, Штейн, округлым
движением, и будто от дыма сморщив глаз (хоть он в этот момент
и не курил), вытащил из бокового кармана шелковый с прожилинами
портфель, и вынул оттуда новенькую хрустящую сторублевку. -
Неужели даст? - подумалось мне, - и странно, несмотря на то,
что деньги были мне очень нужны, я почувствовал неприятнейшее
разочарование. Будто в этот короткий момент я уверился в том,
что доброта, выказанная подлецом, - разочаровывает совершенно
так же, как и подлость, свершаемая человеком высокого идеала.
Но Штейн не дал. - Это все, что у меня есть, - сказал он,
кивая подбородком на сторублевку. - Будь эти сто рублей в
мелких купюрах, я, конечно, дал бы тебе даже десять рублей. Но
они у меня в одной бумажке, и потому менять ее я не согласен,
даже если бы тебе нужны были всего десять копеек. При этом, не
в мои глаза, а только в лицо, не увидали, видимо того, что
собирались увидеть. - Разменянная сторублевка это уже не сто
рублей, - откровенно теряя терпение, пояснил он, зачемто при
этом показывая мне вывернутую ладонь. - Разменянные деньги -
это уже затронутые и значит истраченные деньги. - Конечно,
конечно, - говорил я и радостно кивал головой, и радосто ему
улыбался, и изо всех сил стараясь скрыть свою обиду, чувствуя,
что обнаружив ее (правду, правду писала Соня), я обижу себя еще
больнее. А Штейн с лицом, выражающим одновременно укоризну,
потому что в нем усумнились, - и удовлетворение, потому что
все же признали его правоту, - широко развел руками. -
Господа, - с самодовольной укоризной говорил он, - пора. Пора
стать, наконец, европейцами. Пора понимать такие вещи.
Несмотря на то, что я довольно часто бывал у Штейна, он не
потрудился познакомить меня со своими родителями. Правда, бывай
Штейн у меня, так и я не познакомил бы его со своей матерью.
Однако это одинаковость наших действий, имела совершенно разные
причины: Штейн не знакомил меня со своими родными, ибо ему
перед ними было совестно за меня, - я же не познакомил бы
Штейна со своей матерью, ибо совестился бы перед Штейном за
свою мать. И каждый раз, приходя от Штейна домой, я мучился
горькой оскорбленностью бедняка, духовное превосходство
которого слишком сильно, чтобы допустить его до откровенной
зависти, и слишком слабо, чтобы оставить его равнодушным.
Есть много странности в том, что противнейшие явления имеют
почти непреодолимую власть притягательности. Вот сидит человек
и обедает и вдруг, где-то, за его спиной, вытошнило собаку.
Человек может дальше есть и не смотреть на эту гадость.
Человек, наконец, может перестать есть и выйти и не смотреть.
Он может. Но какая-то нудная тяга, словно соблазн (а уж какой
же тут, помилуйте, соблазн) тащить и тащить его голову и
обернуться и взглянуть, взглянуть на то, что подернет его
дрожью отвращения, и на что он смотреть решительно не желает.
Вот такую-то тягу я чувствовал в отношении к Штейну. Каждый
раз, возвращаясь от Штейна, я уверял себя, что больше ноги моей
там не будет. Но через несколько дней звонил Штейн, и снова я
шел к нему, шел как бы затем, чтобы сладостно бередить свое
отвращение. Часто, лежа у себя в комнатенке при погашенной
лампе я воображал, что вот занимаюсь какой-то торговлей, дела
идут замечательно, и вот, я уже открываю собственный банк,
между тем как Штейн совершенно оборванный, обнищавший, бегает
за мной, добивается моей дружбы, завидует мне. Такие мечты,
такие видения были мне чрезвычайно приятны, при чем (хоть это и
может показаться весьма странным и противоречивым), но именно
это-то чувство приятности, возбуждаемое во мне подобными
картинами, было мне до крайности неприятно. Во всяком случае,
как бы там ни было, я в этот вечер радостно вскочил с дивана,
когда раздался этот бешеный, долгий звонок, звавший меня к
телефону. В этот памятный, в этот ужасный для меня вечер, я
снова, как и раньше, готов был идти к зовущему меня Штейну. Но
это был не Штейн. И когда сбежав по холодной лестнице и забежав
в телефонную, пропахшую пудрой и потом, будку, я поднял
висевшую на зеленом скрюченном шнуре у самого пола трубку, то
шопот, который захаркал оттуда, принадлежал не Штейну, а
Зандеру, - студенту, с которым я весьма недавно познакомился в
канцелярии университета. И этот Зандер хрипло лаял мне в ухо,
что он с приятелем нынче ночью решили устроить понюхон (я не
понял, переспросил и он пояснил, что это значит нюхать кокаин),
что у них мало денег, что было бы хорошо, если бы я смог их
выручить, и что они меня ждут в кафе. О кокаине у меня было
весьма смутное представление, мне почему-то казалось, что это
что-то вроде алкоголя (по крайней мере по степени опасности
воздействия на организм), и так как в этот вечер, как впрочем,
и во все последние вечера, я совершенно не знал, что мне с
собою делать и куда бы пойти, и так как у меня имелось
пятнадцать рублей, то я с радостью принял приглашение.
2
Стоял сухой и шибкий мороз, которым все, точно до треска,
было сжато. Когда сани подползли к пассажу, то со всех сторон
падал металлический визг шагов, и отовсюду с крыш шел дым
такими белыми столбами вверх, словно город гигантской лампадой
свисал с неба. В пассаже было тоже очень холодно и гулко,
зеркала были заснежены, - но только я отворил дверь в кафе,
как оттуда вырвалось прачешное облако тепла, запахов и звуков.
Маленькая раздевальня, только перегородкой отделенная от
залы, была так тесно набита висевшими одна на другой шубами,
что швейцар пыхтел и подпрыгивал, словно лез на гору, когда,
держа снятую с меня шинель за талию, слепо водил ее падавшим
вниз и никак не цеплявшим крючка шиворотом. На полке и на
зеркале фуражки и шапки тесно стояли колонками одна на другой,
внизу калоши и ботинки, вставленные друг в друга, были на
подошвах испачканы мелом с обозначением номеров.
Как раз, когда я протиснулся в зал, скрипач, уже со скрипкой,
вставленной под подбородок, торжественно поднял смычок и,
привстав на цыпочках и подняв плечи, - вдруг опустился, и
(движением этим рванув за собой пианино и виолончель) заиграл.
Стоя рядом с музыкантами и глядя в переполненный зал,
который, как только заиграли, сразу наддал шумом голосов, я
пытался выловить Зандера. Рядом пианист здорово работал
локтями, лопатками и всей спиной, гнулся стул с подложенной под
ним драной книгой нот и гулял отлипающей спиной, -
виолончелист, поднятыми бровями разжалив лицо, припадал ухом к
шатающемуся на струне пальцу, - а скрипач, крепко расставив
ноги, в нетерпеливой страстности вилял торсом, и ужасно
совестно становилось за его похотливо радующееся собственным
звукам лицо, которое с такой веселой настойчивостью приглашало
на себя посмотреть, и на которое решительно никто не смотрел.
Приподнимаясь на носках, втягивая живот и боком пролезая меж
тесно поставленными столиками, - я невольно (по какой-то часто
случавшейся за последние месяцы, необходимости обнажать перед
собою умственное свое ничтожество), - искал и, конечно, не
находил точного определения - что такое музыка. Здесь, на
другой стороне зала, было чуть просторнее, звуки, как ветер
переменив направление, временами уходили от музыкантов, и тогда
смычки их ходили беззвучно. А у огромного окна, возвышаясь над
головами, уже стоял Зандер и, привлекая мое внимание, махал
платком.
"Ну, наконец-то, вот, - ну, наконец-то, вот и ты, говорил
он, продираясь мне навстречу и схватывая мою руку двумя руками.
- Ну, как живем, - (он задрожал головой), - ну, как живем,
Вадя". У него была болезнь дрожать головой, после чего все
сказанные уже слова будто забывались им, вытряхивались из него,
и с назойливым упорством он повторял их сначала. Его колючие
глазки и хищный нос радостно морщились. Не выпуская моей руки и
пятясь по тесному проходу, он проволок меня к столику, за
которым сидело еще двое. По тому, как они выжидательно смотрели
мне в глаза, было очевидно, что они в компании с Зандером, и
что он сейчас нас будет знакомить. Одного из поднявшихся нам
навстречу Зандер назвал Хирге, другого Миком, при этом три раза
дрожал головой и три раза начинал о том, что этот Мик -
карикатурист и танцор. Про другого, про Хирге, Зандер не сказал
ничего, но Хирге этого легко было определить (по крайней мере
внешне) двумя словами: ленивое отвращение. Когда мы подошли к
столику, Хирге с ленивым отвращением поднялся, с ленивым
отвращением подал мне руку, и, снова усевшись, с ленивым
отвращением начал смотреть поверх голов. Второй, Мик, был явно
очень нервен. Не вынимая изо рта папиросы (она качалась, когда
он говорил), он, не глядя на меня, обратился к Зандеру. - Ну,
ты не засиживайся и выясняй, выясняй положение. И, услышав от
Зандера, что положение выяснено, что имеется пятнадцать рублей,
он сделал кислое лицо Зандеру, потом улыбку, потом все снял и
громко застучал кольцом о стекло стола. Хирге с ленивым
отвращением смотрел в сторону. Кельнерша, с ужасом истощенным
лицом, которое мне сразу показалось знакомым, круто повернула
на стук, и, крепко налегая крахмальным фартучком на острый угол
стола, воткнув его в живот, стала собирать пустые стаканы.
Только когда, собирая окурки (они лежали не в пепельнице, а
были разбросаны прямо на столе), она, брезгливо опустив губы,
так покачала головой, будто ничего, кроме подобного свинства от
вас и не ожидала, - я признал в ней Нелли. Не взглянув на
меня, хоть я и поздоровался с нею и спросил ее, как она
поживает, она продолжала поспешно вытирать стекло стола
тряпочкой, тихо сказала - ничего, мерси, - покраснела
кирпичными, больными пятнами, а когда собрала все со стола, то
пугливо оглянулась в сторону буфета, и вдруг, наклонившись к
Хирге, быстро сказала, что она сейчас сменяется и что будет
ждать внизу. На что Хирге (он как раз опирался руками о стол и
от усилия подняться так перекосил лицо, словно смертельно ранен
в спину) с ленивым отвращением мотнул головой.
3
Не прошло и четверти часа, как все мы, Нелли, Зандер, Мик и
я, расположились в ожидании на минуту отлучившегося за кокаином
Хирге (мне по дороге сообщили, что Хирге не нюхает, а только
торгует кокаином), в хорошо натопленной комнате, заставленной
чрезвычайно старой мебелью. Сейчас же за дверью, так что
последнюю можно было открыть только наполовину, стояло
старенькое пианино; его клавиши были цвета нечищенных зубов, а
во ввинченных в пианинную грудь и отвисавших вниз подсвечниках,
торчали, склоняясь в разные стороны (отверстия подсвечников
были слишком велики), витые красные свечи, испещренные
какими-то золотыми точечками и сверху торчали белые хвостики
фитилей. Дальше по стене шел выступ камина, на белой и
мраморной доске которого, под стеклянным колпаком, два
бронзовых французских джентльмена, в камзолах, чулках и
ботиночках с пряжками, склонив головки и сделав ножками
менуэтное па, собирались элегантно подбросить часы, с белым без
стекла циферблатом, с черной дыркой для завода, и с одной
только стрелкой, да и то изогнутой. В середине комнаты стояли
низкие кресла, бархат которых, когда его гладили по ворсу,
давал желтый, а против ворса черный оттенок с такой
отчетливостью, что по нем можно было писать. А посреди кресел
стоял черный, овальной формы, лакированный стол, и под ним
замысловато изогнутые ножки соединялись на изгиб пластинкой, на
которой лежал фамильный альбом, в чем я тотчас убедился, лишь
только его вытащили. Альбом этот запирался пряжкой с шишечкой,
нажав на которую он, скакнув, раскрылся. Переплет альбома был
из лилового бархата (в нижнем переплете по углам имелись
медные, выпуклые головки гвоздей, немного сточенные, - альбом
на них покоился, как на колесиках), между тем как на верхнем
переплете изображена была потрескавшимися красками лихо
несущаяся тройка с замахнувшимся кнутом ямщиком и с облаками
под полозьями. Я раскрыл было и только начал листать внутренние
страницы, которые были позолочены на ободках и из такого
массивного картона, что при переворачивании щелкали друг о
друга, словно деревянные, - как в это время Мик оживленно
позвал меня в другой конец комнаты. - Вот, полюбуйтесь-ка, -
сказал он, не оглядываясь на меня и подзывая ближе вытянутой
назад рукой. - Вы только посмотрите на этого байструка, вы
поглядите только на этот ужас. И он указал мне на бронзового и
голого младенца, пухленькой ручкой державшего на весу
громаднейший канделябр. - Ведь страшно подумать, вскричал Мик,
прижимая кулак ко лбу, - в какой идиотической теме пребывали
люди, которые это работали, и еще те, которые такую штуку
покупали. Нет, милый, вы посмотрите (он схватил меня за плечи),
вы посмотрите только на его физию. Подумайте (он прижал кулак
ко лбу), ведь этот младенец поднимает вытянутой рукой такую
тяжесть, которая превышает в пять раз его собственный вес, ведь
это чудовищно, ведь это как для нас с вами двадцать пудов. Ну?
А между тем что выражает его личико. Видите-ли вы в нем хотя бы
малейший отголосок борьбы, усилия или напряжения? Да отпилите
вы от его ручонки этот канделябр, и, уверяю вас, что даже самая
чувствительная кормилица, глядя на его мордашку, не сумеет
угадать, хочет-ли этот младенец спать, или он будет сейчас...
Ужас, ужас.
- Ну, какого тебе рожна опять надо, - весело закричал
Зандер с другого конца комнаты и пошел было, обходя кресла, в
нашу сторону, но в этот момент в комнату вошел Хирге. Он был в
халате, прижимая руки к груди что-то с осторожностью нес, и как
только он вошел, нет, как только он отворил коленкою дверь, все
- Мик, Зандер и Нелли, пошли ему навстречу и так как он не
остановился, то опять обратно за ним к лакированному столику,
где под висящей лампой было светлее. Подошел и я.
На столике уже стояла небольшая жестяная коробка, похожая на
те, в которых у Абрикосова продавали соломку, только меньше и
короче. На ее блестящей, словно нечищеной жести, кое-где
виднелись приклеившиеся лохматки сорванной бумаги. Рядом лежало
еще что-то вроде циркуля с ниточкой, и еще тут же деревянная
коробочка. - Ну, валяй, валяй, ждать-то нечего, - сказал Мик,
- посмотри-ка на нашу красавицу, ей уже совсем невтерпеж. И он
кивнул на Нелли, которая, с лицом внезапно заболевшего
человека, в нетерпении то опускалась локтями на стол, то снова
выпрямлялась, при этом не спуская глаз с Хирге, словно
прицеливалась, откуда лучше откусить: сверху или снизу. Хирге
устало потер лоб и, с отвращением ворочая языком и губами,
сказал: - сегодня грамм стоит семь пятьдесят, вам значит
сколько. Последние слова относились ко мне и, видя, как Зандер
возмущенно моргал мне глазми, будто еще раньше разучил со мною
роль, которую теперь, когда нужно ее произнести, я запамятовал,
- я сказал, что у меня имеется без какой-то малости пятнадцать
рублей. - А мне один грамм, - вдруг и совсем неожиданно
сказала Нелли, и прикусила нижнюю губу до белого пятнышка.
Хирге, прикрыв глаза, в виде согласия дал чуть-чуть упасть
голове, положил на борт стола зажженную папиросу и, нисколько
не обращая внимания на Мика, который, с шумным нетерпением
выпыхнув воздух, зашагал по комнате, неся (как кувшин)
запрокинутыми руками свою голову, - раскрыл жестяную коробку.
- Вам, значит, два грамма, - сказал мне Хирге, пытаясь
осторожно вытащить то синее, что лежало в жестянке. - Нет, как
же, - вмешался Зандер, останавливая его, - это ведь надо
разделить. И подрожав головой еще раз: - это ведь надо
разделить. Но к столу уже подбежал Мик и, поднимая указательный
палец (будто ему пришла замечательная мысль), радостным голосом
предложил разделить все три грамма поровну на четыре части,
чтобы на каждого пришлось бы по три четверти. Со зло опущенными
глазами Нелли сказала: - нет, уж мне целый грамм; целый день
за эти деньги работаешь, работаешь. Она опять прикусила губу, а
глаза не поднимала. - Хорошо, хорошо, - примирительно и
злобно махнул на нее Мик, - тогда сделаем иначе. И он
предложил разделить мои два грамма, дав ему и Зандеру по три
четверти, мне же, как начинающему, половину. - Ведь можно, да,
- спросил он, ласково глядя мне в глаза. И только Зандер еще
вмешался, высказав сомнения, составляют-ли две три четверти и
одна половина - два целых.
Видя, что общее согласие наконец достигнуто, Хирге, стоявший
до того с опущенной головой и руками, принял от меня и от Нелли
деньги, пересчитал их, положил в карман, и еще раз отодвинув
папиросу, чтобы она не сожгла стола, взялся за жестяную
коробочку, в которой виднелось что-то синее. Только теперь,
когда Хирге вытащил это синее из коробки, я понял, что это
кулек из синей бумаги, и что рядом с пустой теперь жестянкой
лежат аптекарские весы, принятые ранее за циркуль. Из жилетного
кармана Хирге вытащил костяную лопатку и несколько бумажек,
сложенных как в аптеке для порошков. Развернул одну из них, -
она была пуста, - Хирге вложил ее в чашечку весов, и бросив на
другую крошечный металлический обрезок, взятый из ящичка (в нем
лежали гирьки), - приподнял коромысло весов настолько, чтобы
ниточки натянулись, чашечки же весов оставались бы в
соприкосновении со столом. Продолжая так одной рукой держать
весы, Хирге другой рукой, в которой была костяная лопатка,
раскрыл отверстие пакета и опустил в него лопатку. Бумага
застрекотала и я заметил, что в синем кульке находится вдетый в
него вплотную еще другой кулек, из белой (она-то и
застрекотала) словно бы вощеной бумаги. На осторожно вытащенной
затем костяной лопатке горбиком лежал белый порошок. Он был
очень бел и сверкал кристаллически, напоминая нафталин. Хирге с
очень большой осторожностью сбросил в пакетик на весах и другой
рукой приподнял выше коромысло. Чашечка с гирькой оказалась
тяжелее. Тогда, не опуская приподнятых над столом весов, Хирге
снова воткнул костяную лопатку в синий пакет, но видимо это
было очень неудобно и тяжело руке. - Подержи-ка пакет, -
сказал он Мику, стоявшему к нему ближе других, - и только
теперь, когда он сказал эти слова, я понял, какая ужасная
тишина была в комнате. - Э, да тут почти ничего нет, - сказал
Мик, в то время Хирге, не отвечая и достав лопаточкой еще
кокаина, сбрасывал его с лопатки на весы тем движением
ударяющего пальца, которым сбрасывают пепел с папиросы. Когда
коромысло весов выровнялось, Хирге, осторожным и точным
движением сбросив обратно в пакет остаток с лопатки, опустил
весы, снял порошок и, закрыв его и примяв кокаин, который
тотчас приобрел уплотненно сверкающую гладкость, протянул
порошок Нелли.
Пока Хирге взвешивал и готовил следующий порошок, (обычно он
продавал готовые порошки, но Мик еще по дороге, боясь, как я
потом узнал, что Хирге подмешает хинину, поставил непременным
условием свое присутствие при развесе), итак, пока готовился
следующий порошок, я смотрел на Нелли. Она тут же на столе
раскрыла свой порошок, достала из сумочки коротенькую и
узенькую стеклянную трубочку и концом ее отделила крошечную
кучку сразу разрыхлившегося кокаина. Затем приставила к этой
кучке кокаина конец трубочки, склонила голову, вставила верхний
конец трубочки в ноздрю и потянула в себя. Отделенная ею кучка
кокаина, несмотря на то, что стекло не соприкасалось с
кокаином, а было только надставлено над ним, - исчезла.
Проделав то же с другой ноздрей, она сложила порошок, вложила в
сумочку, отошла в глубь комнаты и расселась в кресле.
Между тем Хирге успел уже свешать следующий порошок, к
которому теперь тянулся Зандер. - Ах, не закрывай ты его
пожалуйста, - говорил он в то время как Хирге, склоняя голову
на бок, словно любуясь своей работой, заканчивал порошок, -
ах, да не придавливай, не дави ты его, не надо. И трясущейся
рукой приняв из спокойной руки Хирге раскрытый порошок, Зандер
высыпал на тыловую сторону ладони горку кокаина, однако-же
много большую, чем это делала Нелли. Затем, вытягивая свою
волосатую шею так, чтобы оставаться над столом, Зандер
приблизил к горке кокаина нос и не соприкасаясь им с порошком,
перекосив рот, чтобы замкнуть другую ноздрю, шумно потянул
воздух. Горка с руки исчезла. Тоже самое он проделал и с другой
ноздрей, с той однако разницей, что порция кокаина,
предназначавшаяся для нее, была так ничтожно мала, что была еле
заметна. - Только в левую ноздрю могу нюхать, - пояснил он
мне с лицом человеком, который, рассказывая об исключительности
своей натуры, смягчает хвастовство - видом недоумения. При
этом с отвращением морщась он, шибко высунув язык, несколько
раз облизал то место руки, на которое ссыпал кокаин, и,
наконец, заметив, что из носа выпала на стол пушинка, он
склонился и лизнул стол, оставив на лакированной поверхности
мокрое, быстро сбегающее, матовое пятно.
Теперь и мой порошок был уже взвешен и лежал аккуратненько
передо мною, между тем как Мик, затворив за вышедшим Хирге
дверь, с большой осторожностью высыпал свой порошок в вынутый
из кармана крошечный стеклянный пузырек. Понюхав кокаина (Мик
тоже нюхал как-то по своему, на иной лад, чем другие, -
опускал в пузырек, в котором кокаин игольчато облепил стенки,
тупую сторону зубочистки и, вытащив на ее выгнутом кончике
пирамидку порошка, подносил к ноздре, ничего не просыпая),
понюхав он увидал мой еще нетронутый пакетик. - А вы-то что же
не нюхаете? - спросил он меня тоном укора и недоумения, будто
я читал газету в фойе театра, в то время как спектакль уже
начался. Я объяснил, что собственно не знаю как, да и у меня и
нечем. - Пойдемте, я вам все сделаю, - сказал он совершенно
так, словно у меня не было билета, и он выражал готовность мне
его дать. - Господа, - крикнул он Зандеру и Нелли, которые в
углу раскрывали ломберный столик и уже достали мелки и карты,
- вы что же там, идите же смотреть, тут ведь человека
ноздревой невинности лишают. Мик раскрыл мой порошок (кокаин
был в нем приплюснут, в середине лежал более толстым слоем, по
краям кончался волнистой линией, и раскрытый Миком дал в толще
трещину и будто весь подпрыгнул), концом зубочистки набрал в ее
выемку немного порошка и, обняв меня за плечи, слегка притянул
к себе. Близко перед собой я видел теперь его лицо. Глаза его
были горячи, влажны и блестящи, губы не раскрываясь
безостановочно ходили, будто он сосал леденец. - Я поднесу эту
понюшку к вашей ноздре и вы дернете носом, это все, - сказал
Мик, осторожно приподнимая зубочистку. И только я, почувствовав
приблизившуюся зубочистку, хотел потянуть в себя воздух, как
Мик, сказав - эх, черт, - опустил ее. Она была пуста.
- Что же ты сделал, - разволновался Зандер (он с Нелли уже
стояли у стола), - ты же сдул. Мне и на самом деле было
страшно, что мое дыхание, которое я даже сдерживал, могло
снести этот белый порошок, и заметив, что тужурка моя под
подбородком обсыпана, невольно, как это делал с пудрой, начал
счищать рукавом. - Да что же ты делаешь, сволочь, - закричал
Зандер и, вскинувшись и глухо грохнув коленями о пол, вытащил
там свой порошок и стал в него собирать пушинки. Чувствуя, что
я сделал какую-то ужасную неловкость, и просительно посмотрел
на Нелли. - Нет, нет, вы не умеете, - тотчас успокоительно
ответила она, переняла через стол от Мика зубочистку (обходя
ползавшего по полу Зандера, шепнула совсем по бабьему, всасывая
в себя воздух - господи) - и подошла ко мне. - Видите ли,
миленький мой, понимаете ли меня, - махая зубочисткой,
заговорила она немного невнятно, словно ей что сжимало зубы, -
кокаин, или как мы его называем, кокш, понимаете, просто кокш,
ну, так вот значит кокш... - Или, как мы его называем кокаин,
- вставил Мик, но Нелли махнула на него зубочисткой. - Ну,
так вот кокш, - продолжала она, - он необычайно, он до
волшебства, легкий. Понимаете. Малейшего дуновения достаточно,
чтобы его распылить. Поэтому, чтобы его не сдуть, вы не должны
от себя дышать, или - должны заранее выпустить воздух. - Из
легких, разумеется, - мрачно заметил Мик. - Из легких, -
ворковала Нелли, и сразу на Мика, - ах, да убирайтесь вы,
мешаете только, - и снова ко мне, - ну, так понимаете, как
только я поднесу понюшечку, так вы от себя не должны дышать, а
сразу в себя тянуть. Теперь поняли, да, - сказала она, набирая
на зубочистку кокаин.
Послушно, так, как она приказала, я не дышал и потом в себя,
как только почувствовал щекотание зубочистки у ноздри. -
Прекрасно, - сказала Нелли, - теперь еще раз, - и ковырнула
снова зубочисткой в порошке. От первой понюшки я не
почувствовал в носу ничего, разве только, да и то лишь в
мгновение, когда потянул носом, своеобразный, но не неприятный
запах аптеки, тотчас-же улетучившийся, лишь только я вдохнул
его в себя. Снова почувствовал зубочистку у другой ноздри, я
опять потянул в себя носом, на этот раз осмелев, много сильнее.
Однако, видимо, перестарался, почувствовал как втянутый порошок
щекочуще достиг носоглотки и, невольно глотнув, я тут же
почувствовал, как от гортани отвратительная и острая горечь
разливается слюной у меня во рту.
Видя на себе испытующий Неллин взгляд, я старался не
поморщиться. Ее обычно грязно голубые глаза были теперь совсем
черны, и только узенькая голубая полоска огибала этот черный,
страшно расширенный и огневой зрачок. Губы же, как и у Мика,
ходили в беспрерывном, облизывающемся движении, и я хотел было
уже спросить, что же они такое сосут, но как раз в этот момент
Нелли отдав зубочиску Мику и приведя уже в порядок мой порошок,
быстро пошла к двери, обернувшись, сказала - я на минутку,
сейчас вернусь - и вышла.
Горечь во рту у меня почти совсем прошла и осталась только та
промерзлость гортани и десен, когда на морозе долго дышишь
широко раскрытым ртом, и когда потом, закрыв его, он кажется
еще холоднее от теплой слюны. Зубы же были заморожены
совершенно, так что надавливая на один зуб, чувствовалось, как
за ним безболезненно тянутся, словно друг с дружкой сцепленные,
все остальные.
- Вы должны теперь дышать только через нос, - сказал мне
Мик и действительно дышать стало так легко, будто отверстие
носа расширилось до чрезвычайности, а воздух стал особенно
пышен и свеж. - Э-те-те-те, - остановил меня Мик испуганным
движением руки, завидя, что я достал платок. - Это вы бросьте,
это нельзя, - строго сказал он. - Но если мне необходимо
высморкаться, - упорствовал я. - Ну что вы такое говорите, -
сказал он, выдвигая голову и прижимая ко лбу кулак. - Ну,
какой же дурак сморкается после понюшки. Где же это слыхано.
Глотайте. На то ведь это кокаин, а не средство против насморка.
Зандер, между тем, держа в руке свой порошок, сел на кончик
стула, посидел так молча, подрожал головой, и словно что
надумал, пошел к двери. - Послушай, Зандер, - остановил его
Мик, - ты там постучи Нельке, скажи чтоб поскорее. Да и сам
поторапливайся, я ведь тоже еще не умер.
Когда Зандер, с какими-то странными движениями пугливой
предосторожности, притворил за собой дверь, я спросил Мика, в
чем дело и куда это они все выходят. - Э, пустое, - ответил
он (он говорил уже тоже как-то странно, сквозь зубы), - просто
после первых понюшек портится желудок, но сейчас же проходит и
уже больше до конца понюха не действует. У вас этого еще не
может быть, - как бы успокаивая, добавил он, прислушиваясь у
двери. - Я думаю, что кокаин-то на меня не подействует, -
вдруг сказал я, совсем неожиданно для себя, и испытывая при
этом от очищенного звука своего голоса такое удовольствие и
такой подъем, будто сказал что-то ужасно умное. Мик нарочно
перешел через всю комнату, чтобы снисходительно похлопать меня
по плечу. - Это вы можете рассказать вашей бабушке, - сказал
он. И улыбнувшись мне нехорошей улыбкой, снова пошел к двери,
отворил и вышел.
4
Теперь в комнате никого нет, и я подхожу и сажусь у камина. Я
сажусь у черной решетчатой дыры камина и совершаю внутри себя
работу, которую делал бы всякий на моем месте и в моем
положении: я напрягаю свое сознание, заставляя его наблюдать за
изменениями в моих ощущениях. Это самозащита: она необходима
для восстановления плотины между внутренней ощущаемостью и ее
наружным проявлением.
Мик, Нелли и Зандер возвращаются в комнату. Я развертываю на
ручке кресла свой порошок, прошу у Мика зубочистку, внюхиваю
еще две понюшки. Делаю я это, конечно, не для себя, а для них.
Бумажка хрустит, кокаин на каждом хрусте подпрыгивает, но я
проделываю все и ничего не просыпаю. Легкий, радостный налет,
который я при этом чувствую, я воспринимаю, как следствие моей
ловкости.
Я разваливаюсь в кресле. Мне хорошо. Внутри меня наблюдающий
луч внимательно светит в мои ощущения. Я жду в них взрыва, жду
молний, как следствие принятого наркоза, но чем дальше, тем
больше убеждаюсь, что никакого взрыва, никаких молний нет и не
будет. Кокаин значит и вправду на меня не действует. И от
сознания бессилия передо мною такого шибкого яда, радость моя,
а вместе с ней сознание исключительности моей личности, все
больше крепнет и растет.
В глубине комнаты Зандер и Нелли сидят за ломберным столом,
бросают друг другу карты. Вот Мик хлопает по карманам, находит
спички, зажигает в высоком подсвечнике свечу. Любовно я смотрю,
с какой бережностью он закругленной ладонью закрывает свечу,
несет ее пламя на своем лице.
А мне становится все лучше, все радостнее. Я уже чувствую,
как радость моя своей нежной головкой вползает в мое горло,
щекочет его. От радости (я слегка задыхаюсь) мне становится
невмоготу, я уже должен отплеснуть от нее хоть немножко, и мне
ужасно хочется что-нибудь порассказать этим маленьким бедным
людишкам.
Это ничего, что все шикают, машут руками, требуют, чтобы я
(как было еще раньше строжайше между всеми обусловлено) молчал.
Это ничего, потому что я на них не в обиде. На миг, только на
коротенький миг я испытываю как бы ожидание чувства обиды. Но и
это ожидание обиды, как и удивление тому, что никакой обиды не
чувствую, - все это уже не переживания, а как бы теоретические
выводы о том, как мои чувства должны были бы на такие события
отвечать. Радость во мне уже настолько сильна, что проходит
неповрежденной сквозь всякое оскорбление: как облако, ее нельзя
поцарапать даже самым острым ножом.
Мик берет аккорд. Я дергаюсь. Только теперь я ловлю себя на
том, как напряжено мое тело. В кресле я сижу не откинувшись, и
желудочные мускулы неприятно напряжены. Я опускаюсь на спинку
кресла, но это не помогает. Мышцы распускаются. Помимо воли я
сижу в этом удобном мягком кресле в такой натянутой
напряженности, будто вот-вот оно должно подо мной подломиться и
рухнуть.
На пианино свеча горит над Миком. Язык пламени колышется, -
и в обратном направлении у Мика под носом качается усатая тень.
Мик еще раз берет аккорд, потом повторяет его совсем тихо: мне
кажется, он уплывает вместе с комнатой.
А ну, теперь скажи, что такое музыка, - шепчут мои губы. Под
горлом вся радость собирается в истерически прыгающий комок. -
Музыка - это есть одновременное звуковое изображение чувства
движения и движения чувства. - Мои губы бесчисленное
количество раз повторяют, вышептывают эти слова. Я все больше,
все глубже вступаю в их смысл и изнываю от восторга.
Я пытаюсь вздохнуть, но настолько шибко весь я натянут, весь
напряжен, что, потянув в себя воздух глубже - вдыхаю и выдыхаю
его коротенькими рывками. Я хочу снять с ручки кресла порошок и
понюхать, но хотя я натуживаю всю силу воли и приказываю рукам
двигаться быстро, руки не слушаются, движутся туго, медленно, в
какой-то пугливой окаменелости сдерживаемые боязнью разбить,
рассыпать, опрокинуть.
Уже долго я сижу, с ногой на ногу, слегка на одном боку. И
нога и бок, на которых я сижу всей тяжестью, устали, мурашечно
затекли, желают смены. Я натуживаю свою волю, хочу сдвинуться,
повернуться, сесть иначе, сесть на другой бок, но тело пугливо,
мерзло, сковано, словно и ему достаточно только сдвинуться и
все загрохочет, упадет. Желание разорвать, нарушить эту
пугливую окаменелость, и одновременная неспособность это
сделать рождают во мне раздражение. Но и раздражение это
безмолвное, глубоко нутряное, ничем не разрядимое и потому все
растущее.
- А Вадим-то наш уже совсем занюхан. - Это говорит Мик.
Потом проходит какой-то промежуток времени, в течение которого,
я знаю, все на меня смотрят. Я сижу окаменело, не поворачивая
головы. В шее у меня все то же чувство: если поверну голову,
так опрокину комнату. - И вовсе он не занюхан. Просто у него
реакция и ему надо дать скорее понюшку. - Это говорит Нелли.
Мик приближается. Я слышу, как над моим ухом он разворачивает
порошок, но я не смотрю туда. Я отворачиваю, опускаю глаза,
делаю все - только бы он их не видел. Я боюсь показать свои
глаза. Это новое чувство. В этой боязни показать глаза не
стыдливость, не застенчивость, нет, - это боязнь унижения,
позора и еще чего-то совсем ужасного, что в них сейчас открыто.
Я чувствую зубочистку у ноздри и тяну. Потом еще раз.
Я хочу сказать спасибо, но голос застрял. - Благодарю вас,
- говорю я, наконец, но до того, как сказать эти слова, крепко
кашляю, кашлем достаю голос. Но это не мой голос. Это чтото
глухое, радостно трудное, сквозь сжатые зубы.
Мик все еще стоит подле. - Быть может, вам что-нибудь надо,
- спрашивает он. Я киваю головой, чувствую, что движения уже
легче, развязаннее. Глухого раздражения уже нет, есть свежий
налет радости.
Мик берет меня за руку, я встаю, иду. Сперва это немного
трудно. В ногах у меня боязнь поскользнуться, опрокинуться, как
у очень иззябшего человека, ступившего на скользкий лед. В
коридоре меня сразу шибко зазнобило.
По дороге в уборную в коридоре сильный запах капусты и еще
чего-то съедобного. При воспоминании о еде я испытываю
отвращение, но отвращение это особое. Меня воротит от еды, не
от сытости, а от душевной потрясенности. Мое горло кажется мне
таким стянутым и нежным, что даже маленький кусок пищи должен
застрять в нем или порвать его.
На пианино у Мика стоит стакан воды. - Выпейте, - говорит
он тоже сквозь зубы и тоже прячет глаза, - будет еще лучше. Я
натуживаюсь, я хочу быстроты, но рука моя медленномедленно и
как-то пугливо округло тянется к стакану. Язык и небо так
черствы и сухи, что вода совсем их не мочит, только холодит. В
момент глотка я и к воде чувствую отвращение, пью, как
лекарство. - Самое лучшее, это черный кофе, говорит Мик, - но
его нет. Курите, это тоже хорошо. - Я закуриваю.
Каждый раз, когда я подношу папиросу к губам, я ловлю свои
губы в беспрестанном, сосущем движении. Им, этим сосущим
движением, выбрасывается непереносимый излишек моего
наслаждения. Я знаю, что при необходимости мог бы сдержаться,
но это было бы так же неестественно, как во время быстрого бега
держать руки по швам.
От воды ли, от папиросы, или от новых понюшек уже
кончающегося кокаина, но я чувствую, что мое боязливое,
оледенелое и расшатанно двигающееся, как бы чего не опрокинуть
и не повалить, тело, - что иззябшие ноги, нащупывающие пол
словно по льду, - что все мое странное, похожее на болезнь,
состояние, - что все это тоже жалкая оболочка, в которую влито
тихо буйствующее ликование.
Я иду к столу. Пока я делаю шаг, пока сгибаю в колене и снова
в тугой боязни ставлю ногу, мне мое движение кажется столь
мучающе длительным, будто оно никогда не закончится. Но когда
шаг уже сделан, когда движение уже закончено, то оно, - это
свершившееся движение, кажется мне в моем воспоминании столь
призрачно мгновенным, словно ни его, ни сопровождавших его
усилий, совсем и не было. И я уже знаю: в этой мучающей
длинности свершаемого, и в этом призрачном пропадании уже
свершившегося, - в этой большой двойственности проходит вся
эта ночь.
Долгим и некончающимся кажется мне это
одевание, это дрожащее влезание в рукава моей
шинели, после того как я, срывающимся от
ликования голосом, предлагаю Мику поехать ко
мне домой, взять там ценную вещь и выменять на
новые порошки. Но вот уже шубы одеты, и мы в
коридоре и будто и не было этих трудных уси-
лий, затраченных на одевание. Долгим и муча-
юще некончающимся кажется это гибельное
схождение с лестницы, словно покрытой сколь-
зким льдом, на которой ноги мои едва сдержива-
ются, чтобы не поскользнуться, и в то же время
дергающе торопятся, будто позади их грозится
укусить собака. Но вот мы уже внизу, и будто и
не было ни этих усилий, мучающих и дрожащих,
ни этой лестницы, - словно мы из комнаты пря-
миком вышли на улицу. Долгими и некончающи-
мися кажутся и эта езда по пустому визжащему
от мороза городу, и этот донимающий спину оз-
ноб, и эти лохмотья пара, и эта золотая проволо-
ка фонарей, мокро вьющаяся в слезящихся гла-
зах и отпрыгивающая, когда моргаю. Но вот мы
уже у ворот и будто ничего этого и не было,
словно из комнаты Хирге я прямиком вошел в
эти ворота. Долгим и некончающимся кажется
мне это дрожание в морозе перед сверкающей
зеленой луной дверью, пока вспыхивает за нею
желтый свет с сонно чухающимся Матвеем, это
восхождение по лестнице, это отмыкание квар-
тиры, это прокрадывание по черной передней и
столовой в тихую спальню матери, и это сладост-
ное дрожание при этом любви к матери, такой
любви, такой любви, какой никогда и не знал и
не чувствовал, и в такой радости, в таком обожа-
нии, будто и крадусь-то я только за тем, чтобы
сделать ей, - маме, что-то доброе, хорошее,
спасительное. Бесконечным кажется это подкра-
дывание к зеркальному бельевому шкапу, кото-
рый, чтобы он не скрипел, я раскрываю не мед-
ленно, не осторожно (от этого он скрипит еще
больше), - а рывком, сразу, так что в распахну-
тую зеленую дверцу влетает спящая голова
матери под лампадой и потом качается. Бесконе-
чным, мучающим, некончающимся, а под конец
призрачным и словно небывшим кажется все: и
поиски в белье с запахом дешевой карамели, и
нахождение броши, и возвращение обратно по
лестнице, которая опять из скользкого льда, и
сразу угроза собаки, и прохождение мимо Мат-
вея, который будто нарочно старается заглянуть
в мои страшные глаза, и странно трудное шага-
ние по длинному заснеженному двору (я только у
саней замечаю, что все еще иду на цыпочках), и
влезание в сани в дрожащей пугливости, что они
дернут, и я сяду мимо, и возвращение обратно
сюда, в эту нагретую тишину комнаты.
В затылке у меня чувство закованной сжатости. Глаза моргающе
напряжены, как при быстрой ходьбе в темноте, когда мучает
ожидание наткнуться на что-то острое. Ни частое моргание, ни
ясная видимость предметов нс облегчают. Я закрываю глаза, но их
напряженность перенимают веки: они ноют, словно ждут удара.
Я стою у стола. Чем дольше я стою, тем шибче каменею, тем
труднее мне сдернуть себя с места. В эту кокаинную ночь все мое
тело то каменеет в неподвижности, и мне трудно сдернуться, то
устремляется к дергающемуся движению, и тогда мне трудно
остановиться: по улице с Миком трудны были только первые шаги,
но потом все во мне дергающе заходило, ноги зашагали
электрически, и безумно, безумно росло глухое раздражение,
когда впереди случался прохожий; обойти боюсь, то ли опрокину
прохожего, то ли задену за дом и опрокинусь сам, - а
приутишить шаги не в моей власти.
Вот в комнату входит Мик. В руках у него новые порошки
кокаина, и он странными движениями прикрывает дверь, точно она
может на него свалиться. Верхняя лампа потушена. В комнате
почти мрак. В осеннем качающем свете свечи, между портьерой и
шкапом втиснулись Нелли и Зандер. Их головы на вытянутых шеях.
У Нелли кривая шея, ее голова вытянута вбок, и кажется как раз
с этой стороны движутся на нас грозные шорохи ночной квартиры.
Глаза безумно стоят. В комнате все останавливается, у всех
движутся только губы. - Тиштиштиштиш, - быстрым, сливающимся
шепотом высвистывает Нелли. - Кто-то идет, - шепчет Зандер,
- кто-то идет сюда, - шепотом выкрикивает он и голова его
безостановочно трясется. И я уже заражен. Я уже тоже боюсь. Я
уже тоже не могу вообразить ничего более страшного, как именно
то, что сюда, в эту тихую, темную комнату придет шумный, бодрый
и дневной человек и увидит наши глаза и всех нас в этаком
состоянии. И я чувствую: достаточно сейчас выстрелить,
пронзительно закричать или дико залаять - и нежная ниточка, на
которой держится мой тихо бушующий мозг, - порвется. Сейчас в
этой ночной тишине, я особенно боюсь за эту ниточку.
Я сижу в кресле. Голова моя так напряжена, что мне кажется,
будто она колышется. Мое тело захолодало, застыло, словно
отпало от головы: чтобы почувствовать ногу или руку, я должен
двинуть ими.
Вокруг меня люди, много, очень много людей. Но это не
галлюцинация: я вижу этих людей не вне, а внутри себя. Здесь
студенты, учащиеся женщины и другие, но все какие-то странные:
косые, кривые, безносые, волосатые, бородатые. - Ах,
профессор, - восторженно кричит курсистка (профессор это я) -
ах, профессор, пожалуйста, сегодня о спорте. Она об одном глазу
и протягивает мне издали руки. Кривые, косые, бородатые,
волосатые, все такие, которым нельзя и страшно раздеться, -
вопят: - да, профессор, да, о спорте - да, про спорт - дайте
определение, что такое спорт. Я небрежно улыбаюсь и кривые,
косые, бородатые, волосатые круто стихают. - Спорт, господа,
это есть затрата физической энергии в непременных условиях
взаимного соревнования и совершенной непроизводительности.
Безрукие, кривые, косые дико орут - "дальше" - "ещееще" -
"дальше". Ученая женщина об одном глазу локтями бьет по мордам,
приговаривает - простите, коллега, - и продирается к моей
кафедре. Я поднимаю руку. Тишина. - Для нас, господа, - шепчу
я, - важен не спорт, не его сущность, а степень его
воздействия, его влияние на общество, и даже, если угодно, не
государство. Вот почему, в ознаменование намеченной темы,
позвольте мне сказать несколько слов, относящихся не к спорту,
а к спортсменам. Не думайте, что я имею в виду только
спортсменов профессионалов, таких, которые берут деньги за свои
выступления и от этого живут. Нет. Ведь важно не только от
чего, но во имя чего живет человек. Поэтому под спортсменами, о
которых я говорю, я разумею решительно всех нам известных,
независимо от того, является ли для них спорт профессией или
призванием, средством к существованию или целью их жизни.
Достаточно только обратить внимание на все растущую
популярность таких спортсменов, чтобы признать, что уже не
просто успех, а уже истинное обожание этих людей захватывает
все большие круги общества. Об этих людях пишут газеты, их лица
фотографируются, - (при чем здесь лицо), - появляются в
журналах, и, кажется, уже очень немного недостает, чтобы люди
эти стали национальной гордостью. Можно еще понять, если нация
гордится своими Бетховенами, Вольтерами, Толстыми (хотя и то,
при чем здесь нация), - но чтобы нация гордилась тем, что
ляжки у Ивана Цыбулькина здоровее, чем у Ганса Мюллера, - не
кажется ли вам, господа, что подобная гордость свидетельствует
не столько о силе и здоровье Цыбулькина, сколько о немощи и
болезни нации. Ведь если Иван Цыбулькин имеет успех, - то
ясно, что каждый, кто этому Ивану с таким подозрительным
обожанием апплодирует, уже одними своими хлопками всенародно
заявляет свою восторженную готовность поменяться своей
жизненной ролью с тем, к кому относятся его апплодисменты, и
что чем больше таких апплодирующих людей, тем ближе ведет все
это к повороту в общественном мнении, и тем самым во всей
нации, которая выберет своим идеалом и захочет стать Иваном
Цыбулькиным, единственной и общепризнанной заслугой которого
будут его ужасно здоровые ляжки.
Бесчисленное множество раз шепчу я эти слова. И мне хочется
сдержать эту ночь, мне так хорошо и так ясно во мне, я так
неномерно влюблен в эту жизнь, мне хочется все замедлить, долго
откусывать обожание каждой секунды, но уж ничто не
останавливается, и вся эта ночь неудержимо и быстро уходит.
Сквозь щели портьер я вижу рассвет. Под глазами и в скулах
пустота и тяжесть. Все как-то грузно останавливается вокруг
меня и во мне. В носу все жадно раскрыто, тоскующе пусто до
самого горла, и дыхание больно царапает - не то воздух слишком
жесток, не то внутренность носа стала слишком нежна. Я пытаюсь
отогнать эту все тяжче наваливающуюся на меня тоску, я пытаюсь
вернуть мои мысли, мои восторги и восторги бородатых
слушателей, но в памяти моей возникает вся эта ночь, и мне
делается так стыдно, так срамно, что впервые правдиво и
искренно я чувствую, что не хочу больше жить.
На столе, где разбросаны игральные карты, я начинаю искать
пакет с кокаином. Все карты лежат рубашками вверх. Осторожно я
раздвигаю их, опрокидываю одну, начинаю разбрасывать, наконец,
бессмысленно рвать, от отсутствия кокаина испытывая все больший
ужас от этой страшной тоски. Но кокаина, конечно, нет. Его
унесли Мик и Зандер. В комнате никого нет. Я не сажусь, я падаю
на диван. Пригнутый я страшно дышу, - вдыхая, поднимаюсь,
выдыхая опадаю, словно этим вонзающимся столбом воздуха могу
остудить огонь отчаяния. И только хитрый бесенок в дальнем и
глубоком тайничке моего сознания, тот самый, который продолжает
светить и не тухнет даже при самом страшном урагане чувств -
только этот хитрый бесенок говорит мне о том, что надо
смириться, что не надо думать о кокаине, что думая о нем и в
особенности о возможности его наличия здесь в комнате, я еще
только больше раздразниваю, только еще ужаснее мучаю себя.
В страшной, в никогда еще небывалой тоске, я закрываю глаза.
И медленно и плавно комната начинает поворачиваться и падать
одним углом. Угол опускается глубже, проползает подо мной,
лезет подо мной, лезет позади меня вверх, появляется надо мной
и снова, но уже стремительно падает. Я раскрываю глаза, комната
вонзается на место, сохранив свое кружение в моей голове. Шея
не держит, голова моя обваливается на грудь, повертывает
комнату вверх ногами. - Что они сделали, что они сделали со
мной, - шепчу я и потом, бессмысленно помолчав, еще говорю: -
что ж, я пропал. Но уже хитрый бесенок, тот самый, который -
(если только к нему прислушаться) - даже самые радостные
чувства отравляет сомнением, - а самое ужасное отчаяние
облегчает надеждой, - этот хитрый, ни во что не верящий
бесенок мне говорил: - все твои слова это театр, все это
только театр; пропасть ты не пропал, а ежели тебе худо, так
одевайся и иди на воздух: здесь тебе сидеть нечего.
5
На улице было еще сумеречно. Небо, грязно малиновое, висело
низко. Меня обогнал трамвай, - сквозь его заснеженные стекла
расплющенными апельсинами просвечивало горевшее в вагоне
электричество. Позади трамвая опавшая сетка бороздила и белой
струей снега била верх. Мне представилось, как в вагоне, звонко
потрескивающем от мороза, где кисло пахнет мокрым сукном, тесно
сидят и стоят люди и опыхивают друг друга густыми парами своего
утреннего, гнилью пахнущего дыхания. Впереди меня шел старик с
палкой. Он часто останавливался, подпирался палкой в живот и
подолгу и хрипло харкал. Глаза его, когда он останавливался и
кашлял, смотрели на снег так, словно видели там нечто ужасное.
И каждый раз, когда он выхаркивал зеленое, - мое горло делало
глоток, и мне представлялось, что я глотаю то самое, что он
сплевывает. Никогда не думалось мне, что человек, что все люди
могли бы внушать такое непомерное отвращение, как я это
чувствовал в это утро.
На углу ветер трепыхал афишей на театральном столбе. Когда я
вошел в его полосу, то мимо гремевшего цепями грузовика -
через улицу перебежала девочка. На другой стороне тротуара мать
видимо закаменела в страхе, но когда ребенок невредимо добежал
до нее, то она больно схватила его за руку и тут же побила.
Сделав глаза щелками и рот четырехугольником - ребенок ревел.
Все было ясно: мать скверно мстит своему ребенку за тот страх,
который она по его вине перечувствовала. Но если таково то
лучшее, чем хвастается человек, - мать, то каковы же остальные
люди.
На улице посветлело и уже стало утро, когда я вошел к себе во
двор. На дорожке был свеже посыпан яркий желтый песочек, на
котором чьито новые калоши вдавили оспенные следы. Садик для
господ был запущен и грязен. От сброшенного туда со всего двора
снега он приподнялся над двором и в нем укоротились деревья. В
снегу этом беспорядочно лежали мокрые черные доски и только с
трудом можно было признать в них, затонувшие в сугробах,
сиденья скамеек.
Матвей чистил мелом дверную ручку, свободной рукой дергая
совершенно так же, как и той, что совершал работу, но когда я
приблизился, - зазвонил телефон, и он сбежал в будку. Я
поднялся по лестнице и отпер дверь. Бросив фуражку на подставку
висячего зеркала, которое закачало обеденный стол с неубранным
с вечера самоваром, - стараясь ступать тише, я прошел по
корридору и вошел к себе в комнату.
В первое мгновение меня удивило, что у окна еще горит лампа,
и я даже попытался припомнить - когда же я ее забыл потушить.
Но уже из кресла, руками тяжко опираясь на ручки, мне навстречу
поднялась моя мать. Глядя мне пристально в глаза, она медленно
приближалась. Я посмотрел в ее глаза и сразу вокруг меня стало
ужасно тихо. В кухне, лопающимися струнами, капал водопровод.
- Вор, - едва шевельнув губами на желтом личике, сказала
мать. Она сказала это страшное слово отчетливым шепотом и даже
не зажмурилась, когда, - подчиняясь какой-то внешней
необходимости действий, одновременно выполняя и ужасаясь ею, -
размахнулся и ударил ее по лицу. - Мой сын вор, - спокойно и
горестно, словно рассуждала сама с собой, прошептала мать, и
страшно тряся седой головой и помедлив точно ожидая, не ударю
ли я еще раз, медленно с жалко висящими плечами и руками, пошла
к двери.
Под каменным подоконником в трубах отопления что-то щелкало,
шипело, лилось. Оттуда шла душная теплота. На столе, не давая
света, в лампе желто тлела проволока. Нос мой запух, не
пропускал дыхания. А за окном соседний дом начал морщиться; его
труба оторвалась и мокро расползалась в металлических небесах.
Но я не старался сморгнуть заливавшие глаза слезы.
6
Через полчаса я подходил к дому, где жил Яг. У подъезда стоял
извозчик, нагруженный чемоданами. Рядом, одетый по дорожному,
суетился Яг со своей "испанкой". Завидя меня и путаясь в
огромной своей дохе, он подбежал мне навстречу и обнял меня. В
двух словах я рассказал, что дома у меня случилась
неприятность, что я, можно сказать, остался без крова, и Яг с
бодрой возбужденностью человека, торопящегося в отъезд, даже не
дав мне досказать до конца, и восклицая, что это прекрасно, и
даже, вот истинный Господь, очень даже кстати предложил мне
немедленно же поселиться в его комнате.
Крепко сжимая мою руку, он потащил меня в дом, на ходу
буркнул выносившей баул горничной, что все три месяца, которые
он пробудет в Казани, в его комнате буду жить я, - все также
бегом протащил меня по лестнице и потом сквозь залу до своих
дверей, вставил ключ, с сердитым видом сунул мне в руку пачку
денег, повторяя при этом ни-ни-ни, и еще раз поспешно обняв
меня и извинившись, что боится опоздать на поезд, махнув рукой
убежал.
Оставшись один и отперев дверь, я со странным чувством вошел
в свое новое жилище. Все произошло слишком быстро и от
бессонной ночи меня гадко мутило. В комнате был беспорядок,
какая-то покинутость и тоска отъезда. На столе стояли грязные
тарелки, остатки ужина и куски хлеба. Я отломил кусочек, но
лишь только почувствовал его во рту, как тут же, не разжевав,
проглотил, ощутив небывалую пустоту и дергающую воздушность в
скулах. Впервые узнавая, что значит голод после кокаина, я стал
жадно есть, руками обрывая сальное мясо, - обморочно дрожа
рукой и шеей, напихивая рот, проглатывая снова, набивал,
испытывая желание рычать и в то же время чувствуя нервный
хохоток над этим желанием. А когда съев и сразу сонно отяжелев,
хотя мог еще съесть много, доплелся до дивана и лег, то тотчас
в протянутых ногах что-то мягко, недвижно задергало. И
приснилось мне, как моя бедная старая мать, в рваной шубенке
шагает по городу и мутными и страшными глазами ищет меня.
|