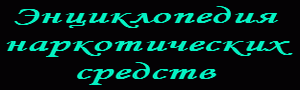Книга первая. Рай
Глава V. Героиня на героине
Я велел таксисту высадить нас на Пляс Дю Тертре. Мы захотели прогуляться по
краешку Бютт и поглядеть оттуда на Париж.
Роскошная стояла ночь. Нигде кроме Парижа не насладишься столь мягкой и
вкрадчивой тишью; горячий воздух легок и сух; все не так как в Англии.
От Сены поднимался, струясь, самый нежный бриз, которому наша фантазия
приписывала благоухание Юга. Сам Париж смотрелся как матово голубая клякса; из
чьих изгибов выглядывали Пантеон и Эйфелева Башня. Они символизировали историю
человечества; благородное, солидное прошлое и деятельное, механизированное
грядущее.
Завороженный, я оперся о парпет. Рука Лу обвила мою шею. Мы были неподвижны до
такой степени, что я мог чувствовать тихий стук моего сердца.
- Что за чудная встреча, Пендрагон!
Несмотря на подразумеваемую неожиданность, голос был низок и обаятелен. Я
оглянулся.
Если бы меня спросили, то я бы несомненно ответил, что всякое беспокойство мне
претило; и вот как раз накатило и оно - внезапное, бурное, неприятное; и оно
меня никак не беспокоит.
В улыбке и выражении лица воскликнувшего мужчины было нечто испытующее. Я
мгновенно узнал его, хотя мы не виделись со школьных времен. Его звали Эльгин
Фекклз. Он учился в шестом математическом, когда я был в начальных классах.
К моему третьему семестру он был назначен старостой; он выиграл конкурс на
Оксфордскую стипендию - лучше себе и представить нельзя. И вдруг без всякого
предупреждения исчезает из школы. Мало кому было известно почему, и те, кто
знали, привторялись, что не знают. Но и в Оксфорде он так и не появился.
С тех пор мне довелось услышать о нем лишь однажды. В клубе. Его фамилия всплыла
в связи со слухами о каком то финансовом мошенничестве. Я запомнил, но довольно
смутно, что это было как то связано с тою неприятностью в школе. Он был не из
тех мальчиков, которых исключают по ординарному поводу. Тут определенно был
замешан его тонкий интеллект. Признаюсь вам, в школе он был для меня чем то
вроде героя. Он обладал всеми недостающими мне наиценнейшими качествами в самом
полном объеме.
Я знал его не очень близко, но, тем не менее, был страшно шокирован его
исчезновением. Оно почему то отпечаталось в моей памяти, когда множество куда
более важных вещей не оставили и следа.
Он почти не переменился с тех пор, как я видел его в последний раз. При среднем
росте, у него было долгое и узкое лицо. В выражении его лица было нечто
клерикальное. Глаза были маленькие, серого цвета, и он имел привычку моргать.
Нос большой и крючковатый, как у герцога Веллингтона; тонкие и сжатые губы. На
лице его невозможно было отыскать ни малейшей морщины.
Фекклз сохранил прежнюю неспокойную, нервную подвижность, которая так выделяла
его среди мальчиков. О нем можно было сказать, что он постоянно настороже и
ожидает, будто что то вот вот случится... И все таки сказать, что это его
подавляет, было бы неправильно. Он обладал превосходной самоуверенностью.
Пока я припоминал его, он успел пожать мне руку и уже болтал о былых временах.
- Я слыхал, между прочим, что ты уже сэр Питер, - сказал он. - Так держать. Я
всегда причислял тебя к победителям.
- Кажется, мы с вами уже встречались, - вмешалась Лу. - Ну конечно, это же
Мистер Фекклз.
- О да, и я вас хорошо запомнил. Мисс Лейлигэм, не так ли?
- Давайте забудем о прошлом, пожалуйста, - улыбнулась Лу, беря меня под руку.
Не знаю отчего, но я испытал неловкость, объясняя, что мы теперь муж и жена.
Фекклз отбарабанил набор поздравлений и спросил:
- Могу ли я представить мадмуазель Аидэ Лямурье?
Девушка за его спиной улыбнулась и склонила голову.
Аидэ Лямурье была блестящая брюнетка со сверкающей улыбкой и булавочными
зрачками глаз. Она состояла из массы чарующих противоречий. Ее нос и губы
указывали на более чем изрядный след семитской крови, но клинообразный контур
лица выказывал наследственные черты совершенно противоположного племени. У нее
были впалые щеки и «вороньи лапки» портили уголки ее глаз. Темнолиловые веки
намекали на занятия чувственными удовольствиями до изнеможения. При роскошных
волосах у нее практически отсутствовали брови. Вместо них она нарисовала
карандашом две черные дуги. Она была густо и безвкусно накрашена. На ней было
надето просторное и несколько дерзкое вечернее платье, синее, в серебряных
блестках, подпоясанное желтым, в черную крапинку, кушаком. Поверх него была
накинута мантия из черного шелка, отороченная киноварного цвета кисточками. Ее
руки были мертвенно тонки. Было нечто непристойное в крючковатых ее пальцах,
унизанных гигантскими кольцами с сапфирами и бриллиантами.
Она держалась с живою томностью. Казалось, ее постоянно необходимо побуждать к
действию, но едва угасал первый толчок, она тут же погружалась в свои глубокие
думы.
Ее радушие было явным притворством; но от нас обоих, от Лу и от меня, не
ускользнуло это при рукопожатии и мы ощутили тонкую и загадочную симпатию,
которая оставила за собой пятно невыразимого зла.
Я не сомневаюсь, что это безмолвное причащение не ускользнуло от Фекклза, и что
оно, по той или иной причине, доставило ему огромную радость. Его поведение
сделалось вкрадчиво почтительным, и он, как мне показалось, взял на себя
командование, когда предложил:
- Могу ли я рискнуть, предложив вам с Леди Пендрагон отужинать с нами в
«Маленьком Савояре»?
Аидэ взяла под руку меня, а Лу шла впереди с Фекклзом.
- Мы и сами туда собирались, - говорила она ему, - и будет просто прекрасно
оказаться там, в кругу друзей. Я вижу, вы довольно старый друг моего супруга?
Он принялся рассказывать ей про школу. Будто бы случайно, он выдал подробности
относительно обстоятельств, приведших к его исключению.
- Мой старик, понимаете, вращался в деловых кругах Лондона, - слышалась его
болтовня. - И он угрохал свои сбережения где то в районе Ломбард стрит (Фекклз
натянуто хихикнул), откуда он уже не смог их вынуть, чем и положил конец моей
академической карьере. Он уговорил старого Розенбаума, банкира, взять меня на
должность личного секретаря, учитывая мой талант финансиста. На этом посту я был
как рыба в воде, и дела мои с тех пор шли замечательно. Но Лондон не место для
человека по настоящему амбициозного. Не позволяет развернуться. Вашему покорному
слуге Эльгину Фекклзу подавай Париж или Нью Йорк.
Не знаю почему я не поверил ни единому слову в этой байке; но я - не поверил!
Героин действовал чудесно. Я ни коим образом не был склонен беседовать с Аидэ.
Она также не желала меня замечать, и не произнесла ни слова.
В таком же состоянии находилась и Лу. Она явно слышала, что втолковывал ей
Фекклз, но не делала замечаний и вообще сохраняла тотальную отрешенность. Весь
эпизод не занял и трех минут. Мы вошли в «Маленький Савояр» и заняли наши места.
Похоже, наши друзья были хорошо знакомы хозяину. Он приветствовал их с
преувеличенной французской суетливостью. Мы заняли столик у окна.
Этот ресторан висит на крутом склоне Монмартра, точно орлиное гнездо. Мы
заказали ужин - Фекклз расторопно и со знанием дела, все остальные с полнейшим
безразличием. Я взглянул на Лу. Я впервые в жизни видел эту женщину. Ее имя ни о
чем мне не говорило. Внезапно мне срочно захотелось выпить большое количество
воды. Но я не смог бы даже заставить себя налить ее в стакан. Мне трудно было
даже кликнуть официанта, но, по моему, я все таки произнес слово «вода», ибо
Аидэ наполнила мой бокал. Улыбка скользнула по ее лицу. И это был первый признак
жизни, который она подала. Даже рукопожатие было по сути механическим рефлексом,
а не умышленным действием. Чем то зловещим и тревожным веяло от этой ее гримасы.
Как будто она ощутила у себя во рту привкус некой мерзостной горечи.
Я посмотрел на Лу еще раз и заметил, что она стала совсем другого цвета. Она
выглядела ужасно больной. Мне же было все равно. Меня охватил рой мыслей на этот
счет. Я запомнил, что любил ее страстно, и в тоже время ее, оказывается, не
существует. Дьявольское блаженство - вот как я бы назвал состояние, источником
которого стало мое равнодушие.
Я находил забавным, что она, быть может, отравила себя. Мне определенно было
крайне нехорошо. Но и это меня не беспокоило.
Официант подал блюдо мидий. Мы сонно их поедали. Это тоже была часть рабочего
дня. Мы смаковали их потому, что они были смакуемы; но ничто не имело значения,
даже получение удовольствия. Меня поразил тот факт, что Аидэ попросту
притворяется, что ест, но я приписал это ее рассеянности.
Мне стало гораздо лучше. Фекклз легко и гладко болтал о разнообразных пустяках.
Никто не обращал внимания. Он, со своей стороны, не замечал, казалось, какого
либо недостатка вежливости.
Я точно чувствовал усталость. Решив, что Шамбертен меня взбодрит, я проглотил
пару стаканов.
Лу продолжала разглядывать меня несколько испуганно, как если бы ей был надобен
некий совет, и она не знает, как об этом спросить. Это было довольно забавно.
Мы приступили к главному блюду, когда Лу внезапно поднялась из за стола. Фекклз,
изобразив на лице притворную тревогу, поспешно последовал за ней. Я видел, как
официант берет ее под другую руку. Нет, в самом деле, это было забавно. С
девушками всегда так - они никогда не желают знать, что такое «достаточно».
И тут же я осознал, с пугающей неожиданностью, что дело не ограничивается одним
только слабым полом. Я вовремя успел выйти.
Если я промолчу о событиях последовавшего часа, то отнюдь не по причине этого
незначительного инцидента. По его заключении мы снова сели за столик.
Мы пили глоточками старинный Арманьяк; он нас подкрепил. Но вся сила ушла из
нас, как если бы мы выздоравливали после какой то очень долгой и губительной
болезни.
- Тут не о чем тревожиться, - сказал Фекклз со своим странным смешком. -
Пустячная неосторожность.
Я скривился при этом слове. Оно напомнило мне о Царе Лестригонов. Я ненавидел
этого типа больше, чем когда либо. Он начинал меня преследовать. К чорту! Будь
он проклят!
Лу доверила нашу историю Фекклзу целиком и он признался, что знаком с такого
рода делами.
- Видите ли, мой милый сэр Питер, - говорил он. - Вам нельзя принимать Г. так,
как можно К., и когда вы мешаете два напитка, платить приходится дьявольскую
цену. Как и со всем остальным в этой жизни, вам необходимо выяснить ваш предел.
Очень опасно разгуливать, когда вы работаете с Г. или М., и, что уже совсем
катастрофично, есть.
Должен признаться, я чувствовал себя жутким глупцом. В конце концов, не я ли
серьезно изучал медицину; и вот уже второй случай, когда любитель учит меня что
и как.
Но Лу кивала довольно жизнерадостно. Бренди вернул ей цвет лица.
- Верно, - сказала она. - Я все это слышала и раньше, но, как вы понимаете, одно
дело слышать, а совсем другое пройти через все это самой.
- Опыт - единственный учитель, - согласился Фекклз. - Все это нормально, но
главное дело начинать неспеша, чтобы дать себе возможность приноровиться.
Все это время Аидэ просидела без движения, точно истукан. От нее исходила весьма
курьезная аура. Определенное очарование заключалось у нее в полном отсутствии
очарования.
Извините, пожалуйста, за парадокс. Я только хотел сказать, что она обладала
всеми качествами, которые обычно привлекательные. Она сохранила остатки
поразительной, пускай и эксцентричной, красоты. Она обладала громадным
богатством опыта, и это было очевидно; и не только им, но и скрытой энергией,
усиливающей обычно неотразимость; впрочем, она была начисто лишена того, что мы
зовем магнетизмом. Слово это не научное - тем хуже для науки. Оно описывает
природное явление, причем один из важнейших фактов, применимых на практике. Все,
чем интересуется человек - от кабаре до империи - движется магнетизмом и больше
ничем. И наука его игнорирует, потому что нет механических приборов для его
измерения!
Жизненная воля этой женщины была в целом направлена к некой потаенной святыне
внутри собственной ее души.
Наконец впервые за целый вечер она начала говорить. Во всей необъятной вселенной
ей был интересен лишь один предмет - героин. Голос ее звучал монотонно.
Позднее Лу говорила мне, что ей он напомнил панихиду тибетских монахов далеко
далеко за неумолимыми снегами.
- Это - единственная вещь, которая существует, - каким то необычно экстатично
отрешенным тоном произнесла Аидэ.
Угадывалось, что она извлекает из своей печали какую бесконечную, нечестивую
радость. Словно бы она получала болезненное удовольствие от того, что часть ее
духа пребывала в меланхолии, а другая - в чудовищных грезах; в ее расположении
духа и в самом деле присутствовало некое мученическое величие.
- Вы не должны ожидать мгновенных результатов, - продолжила она. - Нужно
переродиться в нем, выйти за него замуж и умереть от него, прежде чем вы его
поймете. Люди все разные. Но любому требуется как минимум несколько месяцев для
того, чтобы избавиться от этого глупого занудства жизни. Пока вы имеете животные
страсти - вы животное. Как отвратительна уже одна только мысль о еде, о постели,
и прочих потребностях! Живешь, как скотина! Само дыхание бывает чудовищно, когда
знаешь, что дышишь. Сколь нестерпимой была бы жизнь даже среднего человека, если
бы он постоянно и остро осознавал процесс пищеварения.
Она слегка содрогнулась.
- Вы читали Мистиков, сэр Питер? - перебил ее Фекклз.
- Боюсь, что нет, голубчик, - ответил я. - Дело в том, что я вообще не читал
почти ничего кроме того, что следовало по программе.
- А я пару лет ими увлекался, - заявил Фекклз, после чего резко замер и
покраснел.
Эта мысль явно пробудила какие то весьма неприятные воспоминания. Он попытался
скрыть свое смущение разговорчивостью, и принялся детально разбирать догматы
Святой Терезы, Мигеля из Молино и ряда других, прославившихся по этой части.
- Главное, как видите, - суммировал он, в конце концов, - согласно теории, что
все человеческое в нас является первейшим препятствием на пути к святости.
Секрет святых в том, что они отвергают все ради одного, ради того, что они
называют Божественной Святостью. И это не просто те вещи, которые мы называем
пороками или грехами - они то как раз по сути и есть элементарные формы зла -
бьющая через край похабщина. Настоящая трудность едва начинается, когда мы
навсегда отвергли вещи такого рода. На пути к святости каждое телесное или
умственное проявление само по себе является грехом даже в том случае, когда оно
действительно оказывается чем то таким, что обычное благочестие относит к
разряду добродетелей. Вот и у Аидэ похожие идеи.
Аидэ безмятежно кивнула головой.
- Я и не представляла себе, - сказала она, - что эти люди так умны. Я всегда
считала их любителями путаных религиозных идей. Но теперь мне ясно. Да, это
означает жизнь в святости; если уж вам так необходимо определение на языке
морали, а, как я полагаю, вам, англичанам, это необходимо. Соприкосновение
любого рода, даже прикосновение к себе самой кажется мне заразным. В свое время
я была главой племени, в английском смысле слова, нечестивцев. Теперь я уже не
помню, что такое любовь, кроме слабой тошноты всякий раз, когда она попадается
мне на глаза. Я почти совсем не ем - только скоты способны погрязнуть в
существовании, требующем троекратного питания в день. Я почти совсем не
разговариваю - слова это отбросы, и все в них - ложь. С моей точки зрения
настоящий язык до сего времени не изобретен. Жизнь человека, жизнь героина? Я
изведала и ту, и другую; выбрала то, что выбрала и не жалею об этом.
Я сказал что то насчет того, что героин укорачивает жизнь. Тусклая улыбка
мелькнула на ее впалых щеках. В ее недоброжелательном блеске было нечто
пугающее, и оно заставило нас замолчать.
Она опустила взгляд на свои руки. И тут я впервые заметил с предельным
изумлением, какие они у нее невероятно грязные.
- Разумеется, если считать жизнь в годах, - пояснила она причину своей улыбки, -
то вы правы, героин ее сокращает. Но разве астрономические исчисления подходят,
когда речь идет о жизни души? Пока я не обратилась к героину, год следовал за
годом, и не происходило ничего стоящего. Это походило на детские каракули в
бухгалтерской книге. Ныне же, когда я окунулась в героиновую жизнь, одна минута
или час - неважно - содержит больше подлинной жизни, чем любой пятилетний период
в дегенеративные дни, предшествовавшие моему духовному возрождению. Вы говорите
о смерти. Почему бы вам о ней не говорить? Смерть это совершенно то, что вам
подходит. Вы, животные, должны умирать и вы это знаете. Но я, я очень далека от
уверенности, что когда нибудь умру; и эта идея мне безразлична также, как любая
другая из ваших обезьяньих идей.
Здесь она снова впала в безмолвие, откинулась назад и закрыла глаза.
Я не говорю, что я какой то там философ; но даже с точки зрения простейшего
здравого смысла было очевидно, что ее позиция является неприступной для всякого,
кому взбрело бы в голову ее атаковать. Как сказано у Г.К.Честертона: «Выбор души
неоспорим».
Часто приходится слышать доводы в пользу того, что человечество и в самом деле
лишилось счастья, характерного для братьев наших меньших, как только обрело
самосознание. Именно это и подразумевает идея «Грехопадения». Мы стали как боги,
познали добро и зло, ценою мучений, и - «в глазах его смерти предвиденье».
Феккльз уловил мою мысль. Медленно и с выражением он процитировал:
Он плетет насмешку и ею одет,
Сеет и жать не будет.
Его жизнь - созерцание или грезы,
Между сном и сном.
Думы о великом викторианце похоже охладили его. Он вырвался из объятий
депрессии, зажег сигарету и сделал большой глоток бренди.
- Аидэ, - вымолвил он с напускной веселостью, - открыто живет во блуде с типом
по имени Барух де Спиноза. По моему, Шопенгауэр называет его «Der Gott
betrunkene Mann».
- Муж бого опьяненный, - слабо промурлыкала Лу, бросив на Аидэ сонный взгляд из
под своих тяжелых век с набухшими голубыми венозными жилками.
- Да, - подхватил Фекклз. - Она всегда носит с собой одну из его книг. Она
засыпает под его слова и, когда ее глаза открыты, взгляд падает на страницу.
Он говорил, постукивая пальцами по столу. Его быстрая интуиция улавливала,
насколько нас обеспокоил тот странный инцидент. Феккльз щелкнул пальцами,
подзывая официанта. Тот расценил его жест как веление подать счет, и отправился
за ним.
- Позвольте мне отвезти вас и сэра Питера обратно в ваш отель, - обратился наш
«хозяин» к Лу. - Вас слегка потрепало, и я прописываю ночной отдых. Доза Г.
пойдет вам на пользу утром, она вас взбодрит, но Бога ради, не перебарщивайте
понапрасну. Только крохотная доза и затем кокаин, кокаин, постепенно, когда
начнете чувствовать, что пора уже подниматься. Ко времени ланча вы будете
чувствовать себя как пара младенцев.
Он оплатил счет и мы вышли из ресторана. Словно по заказу, такси как раз
высаживало компанию у дверей. Таким образом, мы спокойно доехали до дома.
Лу и я, мы оба чувствовали полнейшее изнеможение. Она лежала на моей груди, взяв
меня за руку. Я заметил, как ко мне возвращается сила, по зову ее слабости. И
любовь наша произросла заново из угара пустой темноты. Из меня улетучилась
всякая страсть; и в этом искупительном омовении мы были крещены и наречены
именем Любви.
Однако, несмотря на усилия природы избавить нас от излишков принятой нами
отравы, сказывался остаточный эффект. Прибыв в отель, мы, вопреки сильной
усталости, уговорили, ясное дело, Фекклза с Аидэ подняться к нам для финальной
выпивки. Но глаза наши не хотели оставаться открытыми; и как только они ушли, мы
сделали все, чтобы как можно скорее залезть под простыни нашей двуспальной
кровати.
Едва ли нужно рассказывать моим женатым друзьям, что в предыдущие ночи процесс
отхода ко сну представлял собою весьма дотошный ритуал. Но в данном случае, это
была просто попытка побить рекорд по скорости. Прошло пять минут с момента ухода
Феккльза и Аидэ, и свет в нашем номере погас.
Я воображал, что засну мгновенно. На самом деле, понадобилось некоторое время,
чтобы понять, что ничего так и не выйдет. Я находился в состоянии наркоза,
которое трудно отличить от сновидения. В действительности, если начать
подыскивать определения и объяснять различия, чем дальше вы заберетесь в своих
размышлениях, тем темнее будет суть противоречия.
Но глаза мои определенно не были закрыты; я лежал на спине, а между тем, засыпаю
не иначе как на правом боку, или, что в достаточной мере странно, в сидячем
положении. И пока я так лежал, мысли мои принимали все более осмысленный вид.
Вам известно как незаметно блекнут мысли, когда засыпаешь. И вот, пожалуйста,
они, словно волна в приемнике, блекли наоборот.
Я оказался практически лишен желаний физического плана. Как будто стало
невозможно желать шевелиться или говорить. Я купался в океане чрезвычайного
спокойствия. Мой ум работал, но он был активен исключительно в особых пределах.
Такое впечатление, что я не управлял ходом моих мыслей.
В обычном состоянии сей факт меня бы крайне раздражал. Но сейчас он вызвал у
меня лишь любопытство. Я попробовал, в виде эксперимента, зафиксировать мысль на
чем-нибудь определенном. Технически мне было это по силам, но в тоже время, я
сознавал, что рассматриваю такую попытку, как не стоящую усилий. Я так же
приметил, что все мои мысли были единообразно приятны.
Любопытство побудило меня сосредоточиться на идеях, которые нормально являются
источником раздражения и беспокойства. Сделать это не составило труда, но они
меня больше не огорчали. Я начал вспоминать происшествия в прошлом, которые
практически стерлись из памяти благодаря свойству рассудка блокировать источники
раздражения.
Я открыл, что данная утрата памяти была кажущейся, а не реальной. Я вспоминал
каждую деталь вплоть до ее мельчайших подробностей; но самые досадные и
унизительные пункты ничего для меня не значили. Я наслаждался, вспоминая их, не
меньше, чем читая грустную сказку. Я мог бы зайти еще дальше, и утверждать, что
неприятные случаи были предпочтительнее всех прочих. Тому причина, полагаю, была
оставленная ими на памяти отметина большой глубины. Наши души выдумали память,
так сказать, с целью регистрации осознанных опытов, и посему чем глубже каждый
опыт ощутим, тем лучше наши умы выполняют намерения наших душ.
«Forsitan haec olim meminisse juvabit» (Кто то, быть может, и кое что
вспоминает, ликуя), - говорит Эней у Вергилия, перечисляя свои тяготы. (Странно,
между прочим! Я цитировал латынь не более дюжины раз с тех пор, как кончил
школу). Вот так - наркотики, как старость, убирают недавние воспоминания, и
оставляют, оживляя, чьи то давно забытые идеи.
Глубже всех инстинктов укоренено в нас наше страстное желание все знать по
опыту. Вот почему все попытки утопистов сделать из нашей жизни приятную рутину,
всегда вызывали в душе человека подсознательное отвращение и бунт.
Прогрессирующее благополучие викторианской эпохи, вот что стало причиной Великой
Войны. То была реакция школьника, которому запретили играть.
Это курьезное состояние ума обладало неизменным качеством; поток мыслей протекал
через мой мозг, подобно неотразимой реке. Я чувствовал, что его невозможно
остановить, и даже сколько-нибудь изменить его течение. В моем сознании было
нечто от свойств неподвижной звезды, что движется в космосе по закону своей
неизменной судьбы. И этот поток влек меня от одного набора мыслей к другому,
медленно и без нажима; это походило на приглушенную симфонию. Она включала все
возможные воспоминания, меняющиеся незаметно из одного в другое без тени намека
на дисгармонию.
Я сознавал, что время летит, потому что где то далеко пробили церковные часы с
огромными, неисчислимыми интервалами. Из них мне стало ясно, что я устроил себе
белую ночь. Рассвет ворвался ко мне через открытые французские окна балкона.
Века, долгие века спустя, раздался колокольный звон, возвещавший об утренней
мессе; и постепенно мои мысли стали замедляться, тускнеть; активная радость
мышления стала пассивной. Мало по малу на мои мечтания легли тени, затем
наступило забытье.
|